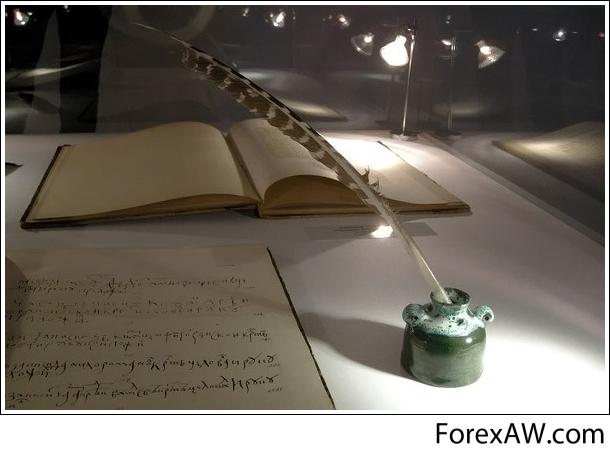Публикуем вторую часть воспоминаний художника Ильи Богдеско «Круг за кругом». В нее вошли три главы: Арест и ссылка, Север, Кировское училище. Автор рассказывает о трагической странице своей истории — аресте и переселения на север семьи Богдеско. Доводит читателя до 22 июня 1941 года, до войны.
Глава 3
Арест и ссылка.
Это случилось в самом начале 1933 года. Хотя это событие для нас и многих односельчан прогремело, как гром среди ясного неба, все же слухи уже заранее ползли, разрастались, становясь все ближе и тревожней. Люди думали, что сия чаша их минет, ибо все при этом ставили на весы судьбы свое «богатство» и каждый видел, что в этом-то селе вряд ли кто подходит под категорию «кулака-мироеда». Но, наверное, уже действовала машина, беспощадно и настойчиво требовавшая для себя топлива, чтобы успешнее перемалывать в ней судьбы ни в чем неповинных людей. Уже были спущены, как мы знаем, разнарядки, проценты. И тот, кто бы отказался выдать необходимый процент, сам мог попасть в жернова. Не знаю, как это происходило именно в нашем селе. Может быть, это когда-нибудь всплывет на поверхность, станет достоянием людей. Как бы то ни было, этот тяжкий жребий пал на нашу семью.
Эти дела творились по-воровски: ночами. Такой стук в дверь мог бы разбудить и мертвого. Он раздался во втором часу ночи. В дом вошли три человека. Двое были в военной форме, третий – в гражданском обличье – представитель местной власти, человек из нашего села, я его часто видел в конторе, где в последнее время работал мой отец. Один из военных – красноармеец – застыл на пороге у дверей, двое других шагнули в комнату. Не глядя в белый листочек, который он держал в руках, обращаясь к моему отцу, военный спросил его фамилию, имя и отчество и, получив ответ, стал читать не спеша, внятно, но негромко содержание бумаги, гласившей, что отец подлежит высылке из села, что он может взять семью и что на сборы нам дается несколько часов. Через минуту незваные гости удалились, оставив красноармейца на посту во дворе, и нас, потрясенных, как громом небесным. Вдруг мама, рухнув на лавку, зарыдала. Отец все молчал. Прошло еще какое-то время, пока он подошел к маме и тихо сказал:
— Тилина, не надо. Везде на земле живут люди. Может быть, и мы будем жить среди людей, а не среди зверей… Ты пока сходи к Кириллу, скажи им, они же ничего не знают.
Нас с братом он послал оповестить дядю Федора.
Времени на сборы дали до утра. Разрешили взять самое необходимое: одежду, еду на дорогу. Мать, вся в слезах, кое-что из имущества раздала родным.
Через час прибыла телега, запряженная, как водится в наших краях, парой лошадей. Днище телеги было замусорено остатками извести, земли. Отец велел нам привести его в порядок, закрыть соломой, снять со стены в каса маре большой ковер, застелить его на всю телегу. Вновь появившийся военный стал поторапливать. Он внимательно следил за тем, чтобы мы не взяли с собой ничего запретного. Что считалось запретным, отец не знал, и потому, показывая ему ту или иную вещь, испрашивал разрешения взять с собой. Тот кратко отвечал:
— Это нельзя, это можно. Это нельзя, это можно. Давай, давай, быстрей, быстрей!
— Вот этот ведерный бочонок с медом мы можем взять?
Военный призадумался. Видимо, про бочонок с медом в его инструкции ничего не говорилось. Но разрешил.
Ю. Кугач Из недавнего прошлого
В селе давно уже прокричали петухи, во дворах слышались говор, случайные звук, лай собак. По нашей улице протарахтела пустая телега. Кто-то куда-то шел по делам, на работу, а, может быть, с запоздалой вечеринки или со свадьбы. Кому куда нужно было, кому куда хотелось идти, туда он и шел. Люди могли остаться дома, если уж не хотелось идти на работу, в конце концов. Их никто не торопил, никто никуда не гнал их насильно.
Они могли веселиться и петь, уехать в Рыбницу (этой осенью мы туда ездили с отцом) и даже в Одессу. Это состояние личной свободы, обыденности, привычности, размеренности происходящего, то, чего не замечаешь и не ценишь, когда оно в избытке, и спокойствие на душе, оказывается, называется счастьем. Но это счастье – там, за пределами нашего двора. За пределами нашего двора протекала прежняя, параллельная с нашей теперешней жизнь, и до нее нам уже никак не дотянуться. Там – бежит-звенит ручей, я слышу его переливчатую мелодию. Вот уже они, мои сверстники, с рассветом бегут, мокрые от головы до пят, за бумажными корабликами, а то и за простыми щепками, несущимися вниз в потоке грязной воды, с радостными возгласами и визгом, увлеченно, страстно и им кажется, и мне вчера казалось, что ничего на свете нет важнее, чем бежать за бумажными корабликами. Вчера я был с ними, а сегодня мне не до них. Первый круг моей жизни, как отброшенного в воду камня, замкнулся и пошел следующий…
Всю ночь село гудело растревоженным ульем. Когда мы утром уезжали, мало кто из боязни пришел провожать. Только самые близкие родственники. Во дворах за воротами стояли односельчане – мужики и бабы, ничего не понимавшие дети. Впрочем, вряд ли кто мог отдать себе отчет в том, что происходит.
Момент нашего отъезда, прощание с родными совершенно выпали из памяти. Помню только, что тогда меня удивили оставленные настежь открытыми двери нашего дома…
Мы медленно ехали в гору, с которой все более открывались широкая долина Днестра и дали, исчезающие в сизой дымке раннего утра. Село, по мере нашего удаления от него, все больше скрывалось под сенью оголенных деревьев. Только пчелы провожали нас, настойчиво кружа над спрятанным в глубине телеги бочонком. Я стал махать руками, чтобы отогнать их, и это было очень глупо, потому что одна из них, сделав крутой вираж, пребольно ужалила меня в щеку. Я заплакал. Мама попыталась вытащить жало, потом прижала к себе, а папа сказал:
— Не плачь, Илюша. Это наши пчелки с тобой простились…
Провинциальная площадь районного центра Рыбницы, который в то время еще только хотел быть городом, смахивала на огромную столичную ярмарку. Однако не слышно было веселья, как это бывает на всех ярмарках мира. Всегда и везде. Сквозь монотонный густой гул голосов и гомон прорывались выкрики и женский истерический плач. Как море, волновалась, гудела, суетилась масса людей, телег, лошадей, с густым вкраплением военных. Район высылал своих людей. Это происходило и в других районах и городах, в других краях огромной страны.
У перрона на первом пути стоял наготове пустой состав из товарных вагонов, в народе именуемых «телячьими». Среди всех выделялись распорядители в гражданской одежде и в военной форме. Внимание было приковано к ним. Они подходили к каждой телеге. Придирчиво и строго просматривали вещи. Когда очередь дошла до нас, тотчас отобрали бочку с медом. Вскоре стали рассаживать по вагонам. В каждом по четыре семьи (в два «этажа»). Две – слева от дверей, две – справа. По разные стороны дверей встали часовые с винтовками.
И наступил момент, когда с грохотом задвинулись двери, отрезавшие от нас свет, загремели засовы, прозвучала истошная команда, паровоз дал протяжный гудок. На миг наступила тишина. Поезд тронулся в неведомое…
Посадка переселенцев в «телячьий» вагон.
И с этих пор, с этого яркого, пронзительно белого листочка враз наша жизнь разделилась на два периода – до и после него. До него было мое короткое детство, все надежды и мечты родителей, моего старшего брата, а после – мрачная полоса тоски, тревоги и беспросветности. Жизнь людей второго сорта и врагов народа.
Глава 4
Север
Что сказать о нашем «путешествии»? Бесконечный перестук колес. Редкие остановки. Одна из них – Москва. Открылись двери. Перед нашими глазами, как на ладони – редкой красоты Новодевичий монастырь. Здесь стояли целые сутки.
Чем дальше на восток, тем становилось морозней. Наконец, прибыли в Киров. Нас высаживают. На площади нас ожидают запряженные сани. В тулупах с поднятыми воротниками пританцовывают, хлопают себя по бокам, чтобы согреться, возницы. Заиндевевшие спины и морды лошадей. Надо всем курится пар. Военных почти не видно. Распорядители все больше гражданские, но команды их по-военному отрывисты и четки. Нас рассаживают. В каждые сани по семье.
Мы устраиваемся на ложе из соломы. Тщательно закутываемся. Сани трогаются. Вереница саней так велика, что я не улавливаю ни ее начала, ни конца. Мы спускаемся к замерзшей реке, переезжаем на другую сторону, где лес закрывает от нас город на горе с главками красующихся церквей.
Монотонная дорога то поднимается в гору – и тогда открываются заснеженные дали, то ныряет в редкие рощи. Поначалу леса видны далеко от дорог и селений и только темнеют в далях голубеющими островками. Но чем дальше, тем они подступают ближе. И уже все чаще едем волоком, и уже все реже встречаются деревеньки. Под вечер обоз останавливается в одной из них. Нас распределяют по домам. В пути – три таких ночлега. Как бедно здесь живут! Но встречают нас радушно, стараются согреть и, чем Бог послал, накормить. Это невозможно забыть! Чуть свет мы вновь в дороге. Видать, недавно выпал обильный снег. Приходится пробивать дорогу по снежной целине. Сани-розвальни – мудрое приспособление для проезда по заснеженному пустырю. Лошади сами угадывают дорогу.
Сани-розвальни
Но вот наш караван волоком преодолел последние тридцать километров и уже за полночь на четвертый день пути достиг конечной цели нашего невольного путешествия. Всех, кого привезли сюда на Трудпоселок №4 (именно так называлось поселение), помещают в длинный и пустой барак. По всему видно, что в нем до нас кто-то жил. По левую и правую сторону этого барака – двухэтажные нары. Каждой семье – один этаж. Затопили буржуйку, стало теплее. Выползли мириады клопов. Этакого чуда мы еще не видали и даже не слыхали о нем. Так началась наша жизнь на новом месте…
Наступило утро. Появился комендант поселка и с ним какие-то люди. Переписали всех. Расспросили, кто какой специальностью владеет. Отцу предложили место плановика. Мать должна была работать в колхозе. В колхозе работы простые: лесоразработки, строительство дорог на уже пробитых просеках, корчевка пней, уход за лошадьми и скотом, строительство деревянных домов- срубов и прочее и прочее…
Всем нашлась работа. Здешняя школа имела классы от четвертого дл седьмого. Брата Ивана сразу определили в седьмой, поскольку он, правда, совсем плохо, но говорил по-русски. Со мной было сложнее: я не окончил третий, кроме того, не знал и трех слов на русском языке. Отец сказал: «Пусть Илюша годик погуляет, подружится с мальчишками. Он быстро изучит язык. На будущий год пойдет в четвертый класс. Теперь наш язык – русский. Он даст нам хлеб и все остальное в жизни».
Для меня год пролетел, как один день. С ребятами я подружился быстро. Пока была зима, я освоил лыжи. Шумными ватагами катались с крутого спуска к реке Соз. С весны и до глубокой осени мы пропадали на рыбалке, ходили по грибы и ягоды.
Поселок представлял собой окруженное тайгой поселение с добротными домами на две и на четыре семьи. От коридора влево и вправо по две квартиры. Поселок строился русскими плотниками-мастерами. В свое время их тоже выслали сюда, только их положение было, пожалуй, потруднее. Их привезли в тайгу и сказали: рубите лес, стройтесь и живите. Они построили, в первую очередь, барак, нам уже знакомый. К нашему приезду все они уже жили в своих домах. Но продолжали строить для тех, кто должен был еще сюда прибыть.
Трудпоселок 4, Нагорский р-н, Кировская область. 1991г.
Возможно в каком-то из этих домов жила семья Богдеско.
Но вот подошла осень, и я в первый раз перешагнул порог русской школы. Отец оказался прав. К этому времени довольно хорошо говорил по-русски, а во втором полугодии даже стал получать по языку хорошие оценки. Однако лучше всего давалось рисование. Мои занятия в этом плане особенно поощрял преподаватель Николай Николаевич Шерстюков. Не знаю, рисовал ли он сам, но мне он сказал: «Тебе надо рисовать с натуры природу и людей». Он одарил меня настоящим альбомом для рисования и акварельными красками. Кистей не было. Он научил, как их можно делать самому. Потом в лесу я нашел на муравейнике беличий хвост и из него сделал себе несколько хороших кисточек.
В бараке мы прожили недолго. С разрешения коменданта перешли на квартиру к старикам Микрюковым, жившим неподалеку.
Старики Микрюковы заслуживают особого упоминания. Они запомнились мне своей добротой, тихим нравом и каким-то философским спокойствием ко всему, что происходило вокруг. Казалось, они и мухи не обидят. Все их хозяйство и было – что две деревянные миски, две ложки, чугунный горшок да инструменты для плетения лаптей. По заказу жителей поселка старик их плел целые дни напролет. Его согбенная спина освещалась светом единственного окна. Лапотки получались отменные. Сделает пару, бодро постучит ими об пол, полюбуется, посмотрит на свет и аккуратно сложит в рядок под стенку на полу. Если кто принесет что из продуктов, вот и вся плата, на том и спасибо. Носи на здоровье!
Поначалу моя мать не признавала этой обуви. Однако вскоре, еще зимой, когда пришлось идти на лесоповал, дед Микрюков все же уговорил ее одеть лапти. К ночи она вернулась усталая. Но довольная.
Как-то отец спросил старика: по какой такой причине они угадили в эти места. Оказалось, они жили на самом краю своей приуральской деревни в ветхом домике, построенном еще дедом. Тайга подступала к окнам. По лесному каменистому склону протекала речушка, которую дед перегородил и смастерил меленку. Она выручала жителей той деревни: ближайшая мельница была в полусотне километров. Но раскулачили и Микрюковых. Пишут оттуда: развалили меленку. «И вот теперь я плету лапти, и то – польза людям…»
Наконец, пришло время, когда нас поселили в одну из освободившихся квартир, где мы и прожили оставшиеся месяцы до нашего отъезда из поселка, пережив голодовку, свалившуюся на людей, как снег на голову. Не стану описывать весь ужас этой поры, унесшей не одну человеческую жизнь. Спасли нас только грибы, ягоды да рыба, которую я уже неплохо научился ловить, благо что в речке Соз ее было много.
В поселке мы уже прожили полтора года. Пришел момент, когда моего отца, как и некоторых других жителей поселка, прибывших сюда с юга, вызвали к коменданту и велели собираться в путь на новое место жительства, а именно – в Горьковскую область, где, как объяснили, требуются специалисты по выращиванию фруктов и даже винограда.
И снова сборы, тревоги, слезы и дороги.
И снова замкнулся еще один круг.
Новый для нас начался в совхозе «Новинки» — опытном хозяйстве, километрах в тридцати от Горького. Селение это стояло на высоком правом берегу широкой здесь Оки. При взгляде на другую ее сторону открывались равнинные дали. Туда от реки шел еще пустырь, но уже чуть дальше дымил вовсю Автозавод им. Молотова, окруженный со всех сторон жилыми строениями.
Поселок Новинки
Отец стал работать статистиком (бухгалтером), мать трудилась в совхозных парниках. Брат Иван в том же году пошел в восьмой класс, школа была на Автозаводе, на том берегу. Каждый день он переправлялся туда на катере или случайных лодках. Только в половодье, когда Ока выходила из берегов, он там неделями жил на квартире.
Я же снова повторил четвертый класс, уже при совхозе. Моей учительницей была Филицата Михайловна Ветрова. Она жила со своей взрослой дочерью при школе, в небольшой, но аккуратной комнатушке. Дочь Филицаты Михайловны хорошо рисовала. Видя мое увлечение рисованием, они часто приглашали меня к себе. Поили чаем. Дочь показывала небольшие листы акварели. Они мне нравились, но меня удивляло, что они были писаны широкими, неприглаженными мазками, между которыми светилась белая бумага.
Зимой, в свободные часы или в выходные дни, с новыми друзьями мы уходили на лыжах далеко от селения, катаясь с горок. Возвращались домой уставшими, мокрыми с головы до ног, но счастливыми. Дома получали «на орехи», но на другой день все повторялось сызнова.
В Новинках мы прожили около года. Потом, непонятно по каким соображениям, нас перевели поближе к Горькому, в совхоз «Щербинки».
Здесь уже не было опытного хозяйства по выращиванию фруктов. Вместо этого была птицефабрика. И мама стала птичницей. Отцу вновь предложили место статистика.
Через дорогу от территории совхоза располагался аэродром. Поначалу нас пугал гул истребителей, бешено проносившихся над нашим домом. Потом мы все же привыкли к этому грохоту. Я думал: почему «они» не побоялись поселить нас возле военного аэродрома, ведь мы считались «врагами народа»?
Дом, в котором мы жили, представлял собой длинное помещение со сквозным коридором, по левую сторону которого были комнаты. Наша выходила своим окном на овраг, заросший кустарником – одно из романтических мест наших детских забав.
Это селение тоже стояло на берегу Оки, совсем близко от пригорода Горького – Мызы. Со Щербинками связано дальнейшее мое приобщение к искусству. Однако – и горестные события, решившие дальнейшую нашу судьбу.
Но все – по порядку.
Родители возвращались с работы поздно. Я был предоставлен самому себе, вплоть до часа, когда обычно садился за уроки.
В один из таких дней я подрался с моим закадычным другом Витей. Его отец тут же пожаловался папе. Когда он пришел с работы, то застал меня в слезах. Мать бранила меня. Отец, по заведенному им порядку, вначале внимательно выслушал мой сбивчивый рассказ. Убедившись, что он в общих чертах сходится с рассказом Витиного отца, сказал, что ему кажется, мне надо попросить прощения у Вити.
Хотя мне не очень-то хотелось просить у него прощения, так как он тоже был виноват, я все же ушел мириться. Примирение состоялось тут же. Я вернулся с облегченным сердцем.
— Присядь ко мне. – Отец обнял меня за плечи.- Тебе, Илюша, уже четырнадцать лет, а ума все еще нет. В твои годы надо уже думать, кем ты станешь. Судя по твоему поведению, нельзя понять, куда ты идешь и куда придешь. Скажи мне, кем ты хочешь стать?
— Художником.
— Ну, положим, существуют и другие специальности не хуже этой. Художники живут бедно.
— Я хочу быть художником.
— Специальность инженера, например, тебе не нравится?
— Я буду художником, — заявил я твердо.
— Хорошо. Но тогда ты должен очень много рисовать.
— У меня нет красок.
— Только в этом дело? Краски я тебе куплю.
Еще в детстве помню, как я рисовал и что я рисовал. Мое рисование было воспринято в селе. Учился я в нижней, начальной школе, которая стояла почти у самого Днестра. А на бугре была средняя школа, семилетка, где преподавал отец. Меня приглашали в верхнюю школу в старшие классы, чтобы я делал им стенгазеты. Рисовал я, наверное, примитивно, но очень увлеченно. Рисовал и на пути в ссылку, отсылая с дороги письма тете Ане с сопровождающими их рисунками. Продолжал рисовать и в ссылке. Это стремление было очень сильным.
После упомянутого выше разговора на следующий день мой отец привел меня к художнику, который, как оказалось, жил в том же доме, дверь – напротив нашей. Этого человека я видел много раз. Он был всегда небрит, неразговорчив. Мне всегда казалось, что он кого-то боится. Выйдет из своей комнаты, посмотрит влево-вправо по коридору и быстро куда-то умчит. Возвратившись, он надолго запирался в своей комнате. Что он там делал, нельзя было понять.
И вот теперь мы с отцом стоим перед этим смущенно улыбающимся и плохо одетым человеком с кистями в руках. Цвет его рубашки нельзя разобрать. Она пестрит разноцветьем красок, лоснится от их наслоений.
Он справился, как меня зовут и тихо сказал:
— Ну, тогда, можно, я покажу свои работы?
Одну за другой он стал показывать небольшие холсты, натянутые на самодельные подрамники.
В первый момент меня охватило разочарование: очень уж много было грубых мазков. За ними сразу ничего нельзя было разобрать, что там нарисовано. Словно поняв мое разочарование, художник отставил холст подальше, и вдруг все ожило. Сердечко мое заколотилось, меня охватило непонятное ранее чувство восторга.
Это были пейзажи – знакомые места я узнавал – и портреты.
Было это давно. С тех пор прошло более полувека, но впечатление от его живописи осталось свежим, незамутненным наслоением лет. Подобное потрясение я ощутил разве только перед Рембрандтом, когда впервые увидел его картины в Эрмитаже. Теперь, избалованный лицезрением многих великих мастеров в разных музеях мира, я догадываюсь, что ничего выдающегося в работах того художника, по всей вероятности, не было. На меня, видимо, подействовала встреча не с любителем, а с профессионалом. Влияние его на меня было решающим. С этих пор, будто кто зажег в моей душе какой-то волшебный свет…
На следующий день, в субботу, отец взял меня с собой на Мызу. Там он купил для меня роскошную коробку акварельных красок, несколько альбомов и кистей.
— Я останусь на Мызе, — сказал он, — а ты иди домой. Скажи маме, я скоро приду.
Мне не терпелось посмотреть на покупку. Расставшись с отцом, я на ходу развернул пакет, полюбовался. Но этого делать не следовало: случившиеся неподалеку мальчишки, как саранча, налетели на меня, надавали тумаков и все отобрали.
Всю дорогу домой я рыдал. Мать не могла меня успокоить. Вскоре пришел отец:
— Не расстраивайся, сынок. Это не такое уж большое огорчение из тех, которые могут нанести тебе люди. А краски мы купим, может быть, даже лучше этих.
Он свое обещание сдержал.
С тех пор рисование стал, можно сказать, главным моим делом. Оно никак не отражалось на занятиях в школе. Отец внимательно, хоть и не назойливо, следил за тем, чтобы в моих школьных делах были порядок и дисциплина. Тут я должен сказать, что у моего отца был отличный почерк. Когда-то их учили чистописанию. Этот предмет, как это теперь ни показалось бы странным, был тогда одним из важных. Именно в нем был заложен источник эстетики. В нынешние времена шариковой ручки каллиграфия – удел лишь редких, избранных специалистов. В годы, о которых я веду речь, еще не был потерян интерес к этому предмету. Не помню, как моих учителей, но отца явно огорчал мой почерк. Поэтому он стал специально заниматься со мной чистописанием.
Он брал чистый лист бумаги, осматривал перо, на клочке пробовал, как оно пишет, и только после этого выводил какое-нибудь слово или букву столь изящно, что уже одно это могло запомниться надолго. Он объяснял, что каждая буква на что-нибудь похожа, может что-то выражать. Одна – веселая, другая – упрямая, третья – еще какая-нибудь. Одна похожа на гуся, другая на жука, да мало ли на кого еще. Но, в общем, каждая должна быть красивой. Все это было похоже на священнодействие. Эти его уроки тоже не прошли для меня даром.
Между тем подходил к концу 1937 год. Мой брат уже несколько месяцев отсутствовал: постигал в городе Н. слесарное мастерство. Но вдруг он вернулся, не окончив курсов, в расстроенных чувствах. Оказалось, что его вызвал директор этого заведения, долго расспрашивал о родителях, о том, как наша семья здесь оказалась, кто в семье чем занимается. Разговор он закончил такими словами:
— Иван, тебе придется покинуть нашу школу. Мы перепрофилируем наше училище. Ты получишь справку об его окончании. Дело, однако, было в другом. Это стало понятно через несколько дней после Нового года. Стали усиливаться слухи о многочисленных арестах. Их волна накатывалась все ближе и ближе. Пошла новая волна раскулачивания. Казалось, все вокруг кишело шпионами и врагами народа. Показывали спичечные коробки: в изображениях на их поверхности, в замысловатых пересечениях линий угадывались чьи-то профили… Было тревожно.
Второй час ночи. По длинному коридору нашего дома застучали сапоги, раздались совсем рядом, и тут и там громкие знакомые уже нам стуки в двери, значение которых было ясно. Мы все вскочили с постели. Отец стал одеваться. Мать хотела было открыть дверь, чтобы посмотреть, что там за шум.
— Не смей! – отец впервые в жизни повысил голос.
В коридоре затихли голоса. Но затем где-то рядом открылись двери. Кого-то увели. И снова стуки. Это напротив, где жил наш художник… Когда к нам постучали, отец был уже одет. Он снял крючок, дверь открылась. Вошли двое военных.
— Богдеско? Трофим Прокофьевич? – спросил один из них.
— Да, это я.
— Вы арестованы. Вам дается полчаса на сборы…
Через несколько дней после ареста отца вспомнили и про нас. Нам объявили, что мы должны собрать вещи для переезда в поселок №4 Нагорского района, Кировской области…Так мы снова оказались в знакомом месте, но уже без отца. Отец как в воду канул. Поначалу мы еще надеялись получить от него письмо, ждали его самого. Ждали всю жизнь… Ему тогда было всего пятьдесят лет.
Осенью 2006 года в Интернете появилась скупая информация, которая что-то прояснила:
Богдеско Трофим Прокофьевич
1887 г.р. Место рождения: АМССР, Рыбницкий р-н, с. Бутушаны- статистик пригородного хозяйства УНКВД- место проживания: пос. Щербинки
Осужд. тройка. Обв. 58-10 ч.1
Расстрел
Источник: Книга памяти Нижегородской обл.
Тогда могли лишить жизни даже за обычную жалобу на низкую зарплату, которая считалась антисоветской пропагандой… Теперь, когда передо мной лежит полученная недавно из Центрального архива Нижегородской области архивная справка, я знаю, что отца забрали 5 января 1938 года и что уже через два дня он был приговорен к расстрелу – за шпионаж… В 1956 году, после разоблачения культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС дело отца закрыли «за отсутствием состава преступления».
На поселке в школе меня приняли охотно. Николай Николаевич поинтересовался прежде всего, не бросил ли я рисовать. Как-то, просматривая мои нехитрые рисунки, он сказал, что в Кирове есть художественное училище, что мне надо готовиться для поступления туда. Это подхлестнуло меня. Мне нравилось ходить по окрестностям поселка с альбомчиком. Охотно рисовал пейзажи, деревья, пеньки. А дома рисовал маму, ну и, конечно, своих друзей. К середине лета набралась целая папка.
Мама выполняла в колхозе разовую работу, какая подвернется. Теперь ее на лесоразработки не посылали. Она все больше развозила товары. За ней была закреплена лошадка по имени Серко. В зависимости от сезона, на санях или на телеге, она развозила на лесоразработки рабочим обеды. Иногда ее посылали в Леспромхоз на Черную речку, что в пятнадцати километрах от поселка все лесом, да лесом. Там работал брат Иван. Хотя он почти всегда приезжал домой на воскресенье, все же маме было легче, если она могла встретиться с ним еще раз или два в середине недели.
По весне была дана разнарядка: на каждого взрослого жителя поселка сделать по двадцать пять метров шоссейной дороги. В круг работ входило: раскорчевка пней, рытье кюветов, засыпка землей поверхности дороги, выравнивание ее горбатого профиля. На нашу семью выходило пятьдесят метров. Каждое воскресенье чуть свет мы отправлялись на наш участок, находившийся в десяти километрах от поселка.
С ужасом вспоминаю эту адову работу. Лопаты ломались, когда мы втыкали их в глинозем, плотный, как камень. На участке в заболоченном месте была масса нераскорчеванных пней. Вдобавок ко всему нас одолевали рои слепней, оводов и комаров, которые, казалось, собрались сюда со всего света. Каторжная работа! И все же мы справились с ней. А тут стала подкатывать осень.
Я жил одной заботой-ожиданием встретить в газете объявление о приеме заявлений в художественное училище. Наконец, оно появилось. В тот же день я отослал документы и свои рисунки. Ответ пришел за четыре дня до начала экзаменов. Наутро я уже шагал в Киров.
Глава 5
Кировское училище
Дорога длинная, транспорта никакого. До Кирова пешком – четыре дня пути. Мать настояла, чтобы я одел лапти. Как я был ей благодарен! Ходить в лаптях – одно удовольствие. Я сменил их на ботинки только перед Кировом. В город вошел в сумерках. Училище нашел без труда.
На следующий день начались экзамены, которые я провалил. Но меня спасло то, что в этом учебном заведении соединилось несоединимое: это было физкультурно-художественное педучилище.
Я твердо решил, что не уеду из этого города, пока туда не поступлю. Секретарша, пожилая женщина, видя мое огорчение, посоветовала спуститься в сад, где в это время сдавали экзамены физкультурники. Она написала записку, и с ней я подошел к преподавателю, принимавшему экзамены по прыжкам в высоту. Он сказал:
— Ну что ж, прыгай.
Я легко перепрыгнул через натянутую веревку. Это была высота для отличной оценки. Педагог послал меня в другой конец сада, где принимали экзамены по бегу. Переходя от одного экзаменатора к другому, я сдал все специальные предметы. Справился и с теоретическими. Так неожиданно для себя я стал учащимся физкультурного училища. Домой послал восторженное письмо.
Общежитие находилось в этом же дворе в длинном (опять же) барачного типа помещении, где умещалось около тридцати коек. Здесь вперемешку жили художники и физкультурники. Мы уживались мирно. Из условий такого совместного проживания я старался извлечь пользу. Присматривался к тому, как работают учащиеся художественного отделения. Работал вместе с ними, в надежде на следующий год сделать еще одну попытку поступить. Это мое желание было столь сильным, что я, кажется, работал над собой больше, чем те, кому повезло. Естественно, что я крепко подружился с «художниками», часто наведывался к ним на курс. Все они, глядя на мои наброски и рисунки, в один голос говорили: произошло недоразумение, большая несправедливость, что я такими работами остался за бортом… Кроме того, я постоянно и с понятным волнением изучал экспозицию Кировского художественного музея, видимо, одного из лучших периферийных музеев России, в котором были Рубенс, Ван Остаде, Константин Коровин, Валентин Серов, Васнецовы и другие прекрасные мастера.
И. Шишкин Пейзаж. 1861 Кировский художественный музей, Киров
На физкультурном отделении я делал кое-какие успехи. Особенно полюбил лыжи, коньки и гимнастику. Коньки преподавала абсолютная чемпионка мира Мария Исакова. Учебный год близился к концу. Начались экзамены.
В один из дней на занятиях по гимнастике, прыгая с брусьев, я сломал правую руку. И здесь Фортуна повернулась ко мне лицом. Когда вечером я пришел в общежитие с загипсованной рукой, ребята обступили меня. Кто-то подал идею:
— Давайте напишем заявление, подпишемся все пятнадцать человек и отнесем к директору.
Так и сделали. Директор со вниманием отнесся к нашему заявлению, тем более что все пятнадцать учащихся стояли перед ней, затаив дыхание. Взяв заявление и пакет моих альбомов, директор сказала:
— Идемте. Как раз сейчас заседает педсовет. Пусть они решат.
Мы ждали недолго. Вышел преподаватель рисунка Сергей Сергеевич Двинин и объявил решение: принять на второй курс, освободив по болезни от сдачи экзаменов по письменным предметам.
Вот уж никак не ожидал, что я через год вольюсь в ту же группу учащихся, с которыми год назад поступал в художественное училище. Но год, проведенный на физкультурном отделении, был как подарок свыше. Я никогда не жалел, что судьба так распорядилась, чтобы мой путь в искусство пролег через физическую подготовку, которой хватило мне на долгие годы. Энергия, которую в молодые годы аккумулирует профессиональная физическая подготовка, как бы подталкивает в зрелые годы в минуты плохого настроения, уныния или когда вдруг захромает воля…
На втором курсе нас ожидал сюрприз: с этого года в училище стали преподавать выпускники Академии художеств Алексей Александрович Потехин, Алексей Петрович Широков и Фиана Анатольевна Шпак. Хотя нашим непосредственным преподавателем по живописи был А.А. Потехин, А.П. Широков часто заходил на курс. Они удачно дополняли друг друга. Ф.А. Шпак вела историю искусств. Вместе с С.С. Двининым, преподавателем рисунка, они, шаг за шагом, открывали нам глаза, переворачивали с ног на голову наши довольно примитивные, любительские представления о живописи, композиции и рисунке. Может быть, одним из больших достоинств их педагогического метода было то, что они, так сказать, не кормили нас досыта своими советами, а всегда оставляли чуть-чуть голодными, давали возможность самим помыслить, самостоятельно разобраться в недостатках наших работ. Конечно, они объясняли все понятным языком, но непременно что-то недосказывали, говоря:
— Ну, дальше ты сам разберешься, если поработаешь, как следует.
Но если все же никак не «доходило», они брали в руки кисть или карандаш и показывали, как надо сделать. А это застревало в голове на всю жизнь.
Много полезного мы извлекали из их разбора наших композиций, натурных зарисовок и этюдов. Основой обучения были жизненные наблюдения, натура. Особенно они не любили высосанных из пальца композиций. В этом случае самым ходовым определением было «Мертвечина».
— Покажи-ка свои наброски. Смотри: вот у тебя люди играют в шахматы на бревнах во дворе. Стоят зрители. Интересно же! Все мировое искусство основано на умении наблюдать, видеть жизнь. Посмотрите у Рембрандта: сюжет библейский, а в основе композиции – жизнь, которая его, Рембрандта, окружала. В этом – сила. Смотришь на его картины, рисунки, офорты и жизнь той эпохи встает перед нами. Ведь от того времени что осталось? Рембрандт да Ван Остаде, вообще «малые голландцы». Прошли столетия, а та жизнь перед нами — как на ладони… В общем, в конце концов, нас отсылали к великим мастерам. И мы шли в музей или библиотеку.
О непосредственном рисовании с натуры они говорили с особым увлечением. Это не копия увиденного, не механическое дело, а осознанный процесс. В основе – анализ. Обычный человек просто любуется природой, смотрит на нее поверхностно. Художник – он еще хочет понять ее, изучает, сравнивает, задает себе вопросы и отвечает на них, смотрит вглубь, хочет увидеть причину, костяк, конструкцию, потому что природа для него – идеал. Он учится ценить первое впечатление – это тебя поразило. Стремится смотреть общё, массами, сопоставляет их между собой, уясняет себе ритмы, музыкальность. Вот и работать надо «массами», а не «кусочками». Массы сравнивать с массами. Надо учиться видеть «в паре»: человек – дерево, толстое – тонкое, круглое – плоское. Искать противоположности и параллели. Выбирать самое характерное. Спрашивать себя: на что это похоже?
Что же касается живописи, то обращали внимание на главное: соотношение больших масс цвета, на интенсивность и силу его, на выявление разницы теплых и холодных, ярких и приглушенных (тонов).
И далее – чуть ли не самое главное: надо постоянно тренировать глаз и руку. Но не торопитесь: как бы вы много ни рисовали – всегда будет мало.
В 1970-е годы, переписываясь с А.А. Потехиным, я признавался ему:
« … Вы меня научили трудиться. Я хорошо помню: мы, ребята, поздно ложились и, вероятно, доставляли Вам немало беспокойства, поскольку Вы жили рядом, и весь этот шум – попробуй угомонить тридцать гавриков! – мешал Вам работать. Но мы, в конечном счет, засыпали, а Вы продолжали трудиться.
Ночью, просыпаясь, я видел свет в Вашей комнате. До девяти утра Вы успевали несколько часов поработать. А потом, как сейчас помню, я робко стучался к Вам, и Вы не жалели времени, чтобы рассказать о художниках, об искусстве, о труде художника. Показывали все вещи первоклассные. Помню «Рисунки Рембрандта» (они у меня сейчас есть) из книги «Рисунки старых мастеров в Музее изобразительных искусств», помню Ваши работы. И я загорался и был счастлив больше всех на свете. Я жадно слушал, и все ложилось прочно, навсегда.
Подражая Вам, мы тоже потом стали много работать. Рано, в 6 часов, я вставал и летел к Родыгину, который жил километрах в двух-трех от общежития. Туда приходил Кудяшев, и мы поочередно рисовали друг друга часа два, после чего бежали в училище. После занятий с другим товарищем бежали к нему домой дворами, чтобы не терять ни минуты, и работали так: он пил чай, обедал, я – рисовал его. Потом менялись ролями. Затем я читал вслух книги по искусству, он рисовал и наоборот, и так – до вечера. А там бежали в Герценку. Потом бродили по городу, ходили на базар все с той же целью: рисовать, рисовать и рисовать. И так – ежедневно…»
А.А. Потехин. Лето
Лето я провел в поселке, помогал, как мог, маме. Вечерами я рисовал ее. После ужина она всегда что-нибудь шила, прирабатывая на этом: у нас появилась швейная машинка.
В комнате тихо. Чуть слышно шипит керосиновая лампа, тикает будильник. У каждого из нас свое дело, свои думы.
— А раз, — заговаривает мама, — я тебе не рассказывала. Зимой… Не знаю, праздник был или что. Надо было на Красную отвезти шесть мешков муки. А такой ветер со снегом, уже два дня метет. Замело дороги. С Красной звонят: «Привезите продукты». Алексей Романыч вызвал.
— Возьми, — говорит, — Павловна, шесть мешков и отвези им потихоньку Что делать? Вот я загрузила сани и отправилась в путь. Ветер страшный. Деревья кидает из стороны в сторону. Въехала в лес. Стало тише. Только верхушки качаются, и тайга шумит. Ну, думаю, к ночи успею. Айда, Серко! Наверное, и полкилометра не проехали по лесу, гляжу – стало смеркаться. И быстро стало темно — не успела заметить. И как боюсь, как боюсь! Тайга, лес. Я одна. Ну, думаю, выйдет какой-нибудь, даст по голове… Сижу на санях, читаю «Отче наш», еду. Только поднялась на пригорок, смотрю – ой! — там человек! А это пень просто. Еду опять, и кажется мне, кого-то вижу на дороге. Вроде — обломанное дерево. Нет — шатается. Подъезжаю ближе – человек! Молчит. От страха стегнула я Серко. А человек шагнул в сторону в снег. И цап за уздечку!
— Куда, — говорит, — едешь так поздно? Не боишься, а?
Откуда духу набралась, отвечаю, как будто смело:
— А что мне бояться, — а сама дрожу, как осиновый лист…
— Сколько километров до поселка? – спрашивает грубым таким голосом.
Я от страха онемела. А все-таки набралась духу и говорю:
— Километров десять будет.
— Ну, ладно тогда. Ну, ладно…, — и отпустил уздечку.
А я кнут держу. И как хлестну лошадь! Серко рванулся и понес. Только ветер в ушах. Еду и смотрю назад, еду и смотрю – не гонится ли за мной тот человек.
— Ой, как вспомню, — волосы дыбом. Проехала с километр. Потом лошадь стала останавливаться. Я с ней по-хорошему. Айда, говорю, Серко, ночь говорю. А она будто поняла. Обернулась, посмотрела, пошла потихоньку. Вдруг смотрю – две дороги. И не у кого спросить. Возьму сюда – лес. Туда – лес. Не знаю, куда ехать. Стою и слушаю. А лес гудит… Это… Подайте мне нитки с машинки… Поеду, думаю, по правой дороге. Нет, она идет вверх. А эта опускается к реке. Ну, конечно, вспомнила. Надо по этой. И слышу, будто кто-то кричит. И бах-бах! – глухой стук. Остановилась. Слушаю. Нет ни звука. Лес и лес. Вдруг, думаю, это медведь? Их ведь у нас, знаешь… Потом послышались голоса. Увидела огоньки. Уж как я обрадовалась! Всё будут люди, а не звери. И даже голос один стала узнавать. Неужто – Толя? Кричу во весь голос, а у самой – мурашки по спине:
— Толя Чепалыга! – а лес: – ыга, ыга!
А он все-таки услыхал. Узнал мой голос. А узнал – бегом прибежал.
Ну, привезла я муку. Все обрадовались. А я как заплачу!
— Ты что ж, — говорят, — Павловна? Что с тобой?
Я рассказываю, а те смеются.
— Ты знаешь, кто это был? Да это же наш бухгалтер.
— Федор Иваныч?
— Федор Иваныч!
— Он самый?
— Он самый.
— А я чуть было не умерла от страха. Думала, он убить меня хочет. Вот незадача…
Каникулы промчались быстро. Я собрал справки для получения паспорта и через два дня пришел в Нагорское. Наутро в паспортном отделе мне сказали: не хватает одной справки. Без нее нельзя получить паспорта. Пришлось мне на следующий день чуть свет отправляться в обратный путь. До поселка было 88 километров, пришлось этот путь проделать еще раз туда и обратно. Как всегда, пешком…
На третьем курсе занятия наши приобрели особый смысл. Кажется, наши учителя были нами довольны. Мы и сами замечали, что не стоим на месте. Постановки становились все сложнее. К нам в аудиторию часто наведывались ребята с 4-го и младших курсов. На просмотры, как на праздник, собирались не только учащиеся и педагоги художественного училища, но и профессиональные художники. К этому времени всем стало очевидно, что выпускники Академии художеств – наши педагоги – внесли свежую струю в методику преподавания.
Мы бегали с курса на курс, сравнивали, особенно работы своих старших товарищей, радовались за себя, гордились учителями и снова впрягались в работу. Будущее светилось радужным светом. Но нам не суждено было окончить это училище…
22 июня началась война.